

|
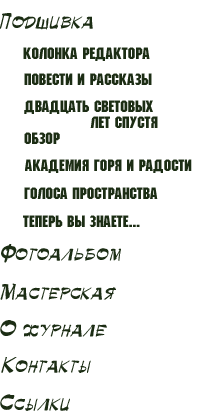

|

Комель одного ствола выступал из-под нагромождения остальных, и на это более чем неудобное сиденье устало опустился Лебедев. Прикрыл глаза, чувствуя, что больше всего на свете ему хочется сейчас лечь и уснуть, чтобы проснуться дома. Интересно, что теперь в городе? Здесь он уже трое суток, если не больше. Сбился со счету, Конечно, его хватились. Но на помощь рассчитывать не приходится. Разве что в бреду может прийти кому-то озарение искать его здесь, в тайге, на этой богом забытой речушке, под завалом... А вдруг вернется Игорь? Спохватится — и вернется? И Лебедев с холодком подумал, что поведение Игоря он предсказать не может и решительно не знает, чего от него ожидать. А ведь знакомы уже несколько лет. Близкими друзьями никогда не были, но пуд соли точно съели в одних компаниях. С Игорем всегда было интересно. Был он удивительно начитан, скор на слово, до невероятности общителен — душа, что называется, любого общества. Называли его ласково и небрежно: Игорешка. Вот уж сколько лет... Николай считал его очень талантливым оператором, да и не он один. Пожалуй, это была самая талантливая камера на Дальнем Востоке. Иногда Лебедев завидовал Игорю. Казалось, он всегда твердо знает, о чем хочет поведать, и знает даже больше, и всегда верит в высший смысл своей работы. А Лебедева как раз мучило то, что за всеми его “заметками” — этим презрительным словом он в последнее время называл все, что писал, — нет ничего, кроме сообщения о факте. Ну живут люди в далеком от Москвы краю... Ну и что? Гордиться экстремальными условиями? Нанизывать эпитеты? А чью душу это всколыхнет? Иногда Лебедев заставлял себя писать с таким трудом, что ему казалось, будто он идет некоему запретному пути. И там, в конце, что-то брезжило. Какая-то цель. Но какая? И какая цель была у Малахова? Да, да, конечно, он безумно влюблен в свою работу — сегодня это подтвердилось... А ведь Игорешку недолюбливают, вдруг подумал Лебедев. Его считают недобрым. И не столько за меткое и порою неприятное словцо, которое он умел, да уж, умел отпустить, сколько за то, что ради сиюминутного эффекта он мог сказать о человеке что угодно. И потом, сияя улыбкой, вскользь извиниться, словно речь шла о пустом, неважном. И тут же перевести разговор так, что вот уже и собеседник, только что сердечно обиженный на Игоря, смеется, слушая его с интересом, увлечен им и самому оскорбление кажется пустым... Но, несмотря на это, а может быть, как раз именно поэтому Игоря не принимали всерьез очень многие. Игорь считал, что окружен завистниками-провинциалами, смакующими его недостатки, и когда Лебедев как-то посоветовал ему пробиваться в Москву, Игорь затих. Говорил, что без Дальнего Востока пропадет, что здесь истоки его творчества... Но однажды зло бросил: “Тут я все-таки Малахов, а там буду — “и многие другие”. Понятно, что он так схватился за возможность сделать нечто поразительное, сенсационное, так рвался к этому кедру... Возможно, для него в этом — спасение от какого-то творческого кризиса, как для Лебедева — конечно, масштабы не сравнить! — история с теми редкими книгами в научной библиотеке. Да ведь и правда, именно в тот момент, когда Лебедеву журналистика стала казаться скучной обязаловкой, работой-однодневкой, нашлась тема, которая поможет выйти на главное — связь времен. Николай усмехнулся: вот в какие глубины завели его подвалы “научки”. А что, разве не так? Сиюминутное, важное именно сегодня, оно ведь тоже станет когда-нибудь прошлым, “делами давно минувших дней”. Дни эти зачеркиваются как нечто маловажное, но не значит ли это, что мы привыкаем зачеркивать, привыкаем легко забывать, и то, за что сегодня отдаем нервы, здоровье, жизнь, как за самое главное, основное, завтра будет сдано в архив с насмешливой небрежностью? И все это происходит от привычки жить важностью лишь сегодняшнего дня — с его лозунгами и проблемами, — в лучшем случае, с робкой заглядкой в будущее, которого, как известно, не знает никто... “О чем я? -вскинулся Лебедев. — Нашел время и место для обдумывания мировых проблем. Лучше поищи, нельзя ли отсюда выбраться самому. А то представь — собьется Игорь с пути. Тогда что? Сгниешь от голода или с ума сойдешь — и никто ничего не узнает. И не увидишь больше никого — разве что какой-нибудь призрак, нежить явится — голову поморочить”. Что бишь хотели от него домовой и дзё комо? Что-то говорили про Омиа-мони... Увидев Игоря и его машину, он забыл о просьбе: увидеть, понять, спасти... Что? Что это значит? Почему к нему приходила Омсон? Не зря же, черт возьми, его уволокли из дому! А он сидит здесь. И вообще, очевидно, не оправдал возложенных на него надежд. Обидно. Лебедев встал. В нем зарождалось нетерпение, заставляло двигаться, искать какого-то дела, выхода искать — любой ценой! Он готов был голыми руками расшвырять этот проклятый завал. Только выбраться. Эх, веревку бы! Но веревки нет. Однако... Лебедев снял энцефалитку. Был бы нож! Он увидел на куртке дырку, видимо, прожженную у костра. Рванул зубами... грубая ткань затрещала и расползлась. Не прошло и часу, как перед Лебедевым лежал ворох ровных полосок, и он начал связывать их. Потом обернул в капюшон камень, вырытый из-под гальки. Надежно обвязал своей “веревкой”. Тщательно прицелившись, бросил тяжелый ком вверх, стараясь если и не попасть в верхний проем, то максимально добросить до него и зацепить груз меж стволов. Камень сорвался и раз, и другой, и третий. Лебедев едва успевал отстраниться, чтобы не попасть под удар. И вот наконец-то!.. Не веря удаче, Николай потянул за “веревку”, дернул сильнее — камень держался. Он даже растерялся на миг. Окинул взглядом свою недолгую тюрьму и, упираясь ногами, стараясь контролировать натяжение “веревки”, полез, вернее, пополз вверх. “Колодец” был не так глубок, как чудилось снизу, однако выбраться оказалось гораздо труднее, чем Лебедев думал. То и дело ударялся головой. Скользили ноги. Особенно ужасно было то мгновение, когда, почти у самого верха, он увидел, что камень под его тяжестью вот-вот перевалится через сук, за который зацепился. Николай дернулся, пытаясь перехватить руки, но тут “веревка” снова натянулась, как будто кто-то прижал камень наверху. “Игорь вернулся!” — подумал Лебедев, сразу забывая обиду и страх. Он с наслаждением выгнулся из щели — и чуть не сорвался опять: крепко упершись в черные стволы, ему протягивал руку... домовой. * * * Костерок тихо приплясывал на берегу. На рогульках висел небольшой котелок, в который отгоняя летучие искры, озабоченно поглядывал домовой. На тряпице, раскинутой на камнях лежали серые ноздреватые лепешки и крупно нарезанные куски кеты. Лепешки, по словам домового, который истово потчевал Лебедева, замешаны на черемуховой муке, потому и были так ароматны и сладки. Потом домовой достал из холщовой торбочки две берестяные чеплашки и осторожно налил в них из котелка чаю — черного, горьковатого от щедро брошенных туда лиан лимонника, его красных ягод да кисточки элеутерококка, колючие стебли которого торчали неподалеку. После каждого глотка у Лебедева прибавлялось сил. — Спасибо, дедушка, сказал он. — Теперь я хоть до завтрашнего дня могу идти без отдыха. Домовой увязывал свою торбочку. — Вот-вот! Омсон-мама точнехонько так и говорила: мол, только подкрепить надо силы Мэргена, а там... — Омсон? — перебил Лебедев. — Так вы ее видели? — А чего бы мне ее не видеть? Частенько дорожки нас с ней, с простоволосой, сводят. Я ей другой раз так и скажу: “Не молоденькая, чай. Нет чтобы платком покрыться, ходишь, волосом светишься!” Мы, домовые, страсть этого не любим, а у них, у таежных людей, обычай иной, вот и ходит, трясет косами, будто девица. _ Она и есть девица! — засмеялся Лебедев. — Ей и двадцати нет, мне кажется. _ Коли кому что кажется, так пускай тот крестится, сурово отвечал домовой. — Вот на твой глаз — сколь мне годков? Лебедев пригляделся. — Ну, шестьдесят, ну, семьдесят, — сказал не очень уверенно, но тут же вспомнил, с кем говорит: — Или больше? Неужели за сто? — То-то и оно-то, что за сто! — важно ответствовал домовой. — Нашенский род исстари ведется. Домовушка должен быть по рождению тот же шишига, то есть дьявол. По крайности был прежде шишигой, а теперь обрусел. Мне нынче никак не меньше, чем пять сотен, а то и поболе. Со счету давно сбился, многое позабывать стал. Но сколь помню себя, таким был, как сейчас. Разве что одёжа попридержалась. Вот и Омсон такая — что хошь с ней делай, время не берет. — Она колдунья? Шаманка? — попытался угадать Николай. — Шаманка?! Подымай выше! Она — владычица Омиа-мони, только про это пускай тебе мой дружечка разлюбезный дзё комо сказывает. У него складнее выходит. Ежели про банника там, про овинника, про дворового аль про русалок, девок зеленовласых, что по чащобам у нас на Орловщине турятся, на прохожего-проезжего морок наводят, — про это дело я тебе такого набаю, что волоса дыбом станут. А про таежное пускай таежные жители и сказывают. Ты мне лучше про себя поведай. Какого роду-племени? Как окрестили? Почто холостым живешь — я приметил — Нет, я не по купецкому, — от души развеселился Лебедев. — Я пишу. — Писарем, стал-быть? — почему-то обрадовался домовой. — Грамоте, счёту обучен? Великое дело — наука! Вот кабы мне на роду не написано домовым быть, я бы непременно обучение прошел и в грамотки всю мудрость народную записывал. Таскался бы по сёлам-посёлочкам: там сказку подслушаю, там песню, там — поговорочку. Поговорка, знаешь ли, цветочек, а пословица — ягодка. Ох, брат ты мой, и крепко же иной раз русский мужик молвит! В пословице ходячий ум народный. Пословицы ни обойти, ни объехать. Живым словом победить можно. Одно слово, знаешь ли, меч обоюдоострый заменить может. Да где б нам найти такое словцо, чтоб лиходея нашего насквозь пронзить? Уж и дружок-приятель у тебя, батюшко Мэрген! — попенял он. — Я спервоначалу думал, что на цвету он прибит, глуповат, стал-быть, однако умище есть, и страшный... А зверюгу белую, что чадом чадит, он где раздобыл? Это ж чисто Змей Горыныч: огонь жрет, жаром орет, а из ушей аж дым идет. Эх, а было времечко золотое: что богатырь, что супротивник его садились на добрых коней — да по раздольицу чисту полюшку... А коняшки сытые, обихоженные. Мы, домовые, коней любим пуще всего на свете! Хынь-хынь, — вдруг завел он жалобно бы хоть махонькую да пегонькую лошадушку! Разве ж наше, домовушек, дело по чащобе шастать, злодея гонять? Домовой — он исстари не злой, не погубит, как русалка зеленовласая, не утопит, как дед водяной, узелком дорогу не завяжет, как злодей леший. Ну, ущипнуть там, синяков насажать, бабе ночью косиц наплести... А тут... Лебедев ласково слушал причитания домового. Так бы и погладил его по сивенькой головушке! — Вот видишь ли, батюшко Мэрген...— продолжал тот, но Лебедев решил наконец прояснять дело: — Ну какой я Мэрген? Меня зовут Николаем. А вас как? — Власием отродясь прозывает домовушку народ. Волосом еще. Белесом. Как хошь, так и зови. Дедкой зови, суседкой. А ты — Никола, славное имечко. Угодник тебе хороший достался, добрый. Ты вон тоже добрый. Да вот беда: слабосильная твоя доброта, нету в ней ярости праведной. Тебе бы тоже домовым на свет народиться, а тебя вон в грамотеи, в Мэргены вынесло! — Ну, предположим, вы меня сами туда записали, — возразил Лебедев.— Не я, а дружечка мой дзё комо. А видать, ошибся... Чего ему на тебя боги евонные указали? Я так понимаю, что на том месте, где нынче твоя изба, прежде стойбище было. Глядишь, там и жил-поживал какой-нито Мэрген. Однако к старости что люди, что нежить забывчивы становятся. Вот и напутал дзё комо. Николай даже обиду почувствовал и решил сменить разговор: — А вы сами откуда? Как попали на Дальний Восток? — Уж сколько раз приходилось задавать такой вопрос! Мог ли он представить, что будет брать интервью у домового! Он попал в мир причудливых и странных существ, которые теперь мерещились за каждым кустом, подсматривали с каждой ветки, смеялись из ручья. Да, это было чудесно, невозможно! И в то же время в явлениях домового, дзё комо, прекрасной Омсон была не понимаемая им, но глубоко чувствуемая бесхитростная правда природы, и она требовала ответной правдивости... — Мы сами из Орловской губернии, — охотно рассказывал тем временем домовой. — Не считал, сколь годков прошло, как собрали Макар да Агриппина Ермоленки, вечные безземельники, барахлишко, наскребли из-под печи, на лапоть насыпали, меня, доможила своего, кликнули: “Дедушка домовой, не оставайся тут, а иди с нашей семьей!” Понимаешь, — доверительно пояснил он Николаю, — если хозяин при переезде суседку своего не позовет, то и скотина водиться не будет и не будет ни в чем спорыньи. Я серой кошкой...— он лукаво покосился на Лебедева, — обернулся — и скок в корзинку! Старуха моя, кикимора, коклюшки, плетенье свое, клубки прихватила — и за мной из голбца шмыгнула. Тряслись наши хозяева на Амур из России и год, и более. Из корзинки нос, бывало, высунешь — и все тебе леса, леса, леса... Ажник уставать стали мы с домахой моей. А пришли-таки. Места — куда тебе с добром! Рыба, зверь богатый. Лес валили нетронутый. Мы уж со старухой серчать стали, что долго нас из корзинки не выпускают, ан зря: скоро нас в новый дом зазвали. В тот самый, где ты был. И-эх! — Он всхлипнул было, но тут же встряхнулся: — Да что!.. Не вернешь. А вон и дзё комо поджидает, батюшка! За разговором Лебедев не заметил пути. Почему-то не цеплялись сучья за одежду, ветки не рвали волосы, замшелые трухлявые бревна — умершие деревья — не лезли под ноги, тайга не мучила бесконечным чередованием сопок. Нет, шли, будто кто стежку под ноги стелил. А солнце все брезжило в полудне. — А что? — усмехнулся домовой, будто подслушав мысли. — Ведь на правое дело! Опять стала впереди загадка. Но Николай не спрашивал, что и зачем. Чувствовал: вот-вот все разъяснится, Круглое лицо дзё комо было настороженным. Он прижал палец к губам и осторожно поманил домового и Николая за собой. Они сделали еще несколько шагов и увидели дерево. Кедр и правда казался голубым. Пушистые пучки его длинных игл отливали то живой синевой, то чистотой изумрудной зелени, то окутывались лиловым туманом. Ветви медленно подрагивали, словно переговаривались с ветром. Многоцветные чешуйки коры мягко пересверкивали, и свет плыл по стволу и ветвям. Распушив хвосты, перелетали рыжие и серые веселые белки, сновали серьезные бурундучки, отмеченные по спинкам следами пяти медвежьих когтей. Узкая хитроватая мордочка белогрудого гималайского медвежонка высунулась из-за толстого сука. Оглядевшись, он начал ловко карабкаться вверх, будто по ступенькам поднимался, шаловливо тянул короткие лапы к белкам. И еще множество зверушек, названия которым и не знал Лебедев, сновало по ветвям. И птицы сидели то здесь, то там, будто притянутые негаснущим, не боящимся близкой зимы теплом. Вершины кедра было не разглядеть, и то одно, то другое облачко цеплялось за ветку и, рассеянное в дымку, растворялось на фоне серого неба. Пробившийся сквозь пелену неверный одинокий луч лениво дремал в развилке, но свет ярче солнечного шел от золотистых, крепких, истекающих ароматом шишек... Да нет же, разглядел Лебедев, шишки были вовсе не шишками а диковинными птицами! Казалось, они растут на ветвях дерева. У подножия кедра мирно подремывали, свернувшись клубком или безмятежно раскинувшись, тигры и медведи, рыси и кабаны. Бродили косули, изюбры, волки... Мирно было, спокойно, будто старое мудрое дерево хранило мир и покой всей тайги. Лебедеву вдруг тоже захотелось прилечь там, на траве, приткнувшись к мягкому и теплому звериному боку, но в это время он заметил неподалеку, на той же поляне, другое дерево — и вспомнил слова Игоря: “Будто снегом занесено!” Да, оно было сплошь белым из-за паутины. Здесь не порхали птицы, не прыгали белки. Белое дерево спало непробудным сном. Из-за ствола голубого кедра показался Игорь. В руках у него была камера, на груди — два фотоаппарата. Он, не отрываясь от объектива, медленно обходил поляну. Со смешанным чувством смотрел Лебедев на него, стоя под прикрытием раскидистого куста шиповника, похожего на догорающий костер из переспелых ягод и увядающих листьев. Обида боролась с радостью вновь встретить живого, настоящего, реального человека, почти товарища, поступившего, конечно, по-свински, но... теперь, когда Лебедев увидел кедр, понял его притягательную силу, почувствовал, как самозабвенно увлечен Игорь съемкой, обида начала таять. Да, для этого человека главное — искусство, ему подчинена вся жизнь.— Охоньки! Оюшки!..— чуть слышно причитал рядом домовой. — Ну, лихоимец! Ну, супостат! — Да что вы так? — тихо молвил Лебедев. — Он же ничего плохого... Он же фильм, понимаете?.. На пленку хочет снять кедр — и все! — путался он в непривычных для домового словах и понятиях. — Даже место вокруг Омиа-мони священно, его нельзя осквернять жадностью — сурово произнес дзё комо, не спуская глаз со сверкающего ствола. — Сюда бабы приходят, чтобы ребятишек родить. Придет, съест орешек — а вместе с зернышком в нее птичка чоко перепорхнет. Чоко — души не рожденных еще людей. Вот, видишь, растут они на дереве Омиа-мони? — указал дзё комо на диковинных птичек. — Да разве только души людей там растут? Тигрицы, зайчихи, медведицы, изюбрихи сюда приходят. Даже змеи. Тайга всех родила, всем жизнь дала. Женщина зернышко съест — человек родится. Тигрица проглотит — тигр родится. Орлица склюет — орел родится. Понимаешь, Мэрген? Но только раз в году Омиа-мони себя людям показывает...— Почему? — Лебедев подумал, что не зря спешил Игорь — как чувствовал! Дзё комо махнул рукой. Казалось, ему трудно говорить от волнения. Морщины резко обозначились на его усохшем лице. Сочувственно поглядев на друга, за него ответил домовой: — Потому, батюшко Мэрген, что веры в людях не осталось. — Какой веры? — не понял Лебедев. — В бога? — Э, бог ваш...— протянул домовой. — Бога эвон только когда вы себе выдумали, а с Омиа-мони почитай вся тайга пошла, от гада ползучего до лесных людей. Где ж тут богу одному управиться? Живое из мертвого не сотворишь, живое от живого идет. В старину и на Руси так было, покуда этого бедолагу люди на крест не прибили да не стали ему поклоны класть. Эх, и не чаял поди!.. А веры — веры не стало, Никола, в добро. Одним днем живете! Чудом, верой в сказку жил человек искони. Не зря добрым молодцам звери, птицы да чудодействия всякие помогали: умели те добрые молодцы лесу поверить, реке в пояс поклониться, небу руку протянуть. Вот, не в добрый час сказать, ухайдакаемся мы с дзё комо аль на пулю напоремся охотницкую — только этим нас и можно взять, ну и самострелом еще, на зверя настороженным, — и все, след наш травой зарастет. Кто же тогда помстится человеку темной ноченькой? Кто душу человечью переполошит? Кто тайгу лицом к нему повернет, к сердцу тропку проложит? А тропка не через буреломы да овраги — через песни-сказки лежит. Это ж, Никола, ума большого не надо, когда в дверь твою стукнут иль звонком позвонят, — не надо, говорю, ума большого, чтоб и головы не повернуть: блазнится, мол! АН нет... Ты с постельки-то пуховенькой на резвые ноженьки встань, не поленись дверь отворить: что там, за порогом? Нет, обленилась душенька народная! Всякому, как тебе, и хорошо — хорошо, и плохо — неплохо. А у которого лени мало, так тот норовит на чуде лишний гривенник загрести, продать чудо норовит, вон как лиходей наш.— Беда будет, коль в заветный день увидит Омиа-мони человек со злыми мыслями. Всем беда будет, — сказал дзё комо. _— Тише! — перебил домовой. Лебедев и дзё комо осторожно выглянули из-за куста. Игорь стоял на коленях и перезаряжал пленку. То ли стрекот кинокамеры, то ли его мельтешенье по поляне разбудили дремавших зверей, и они решили поближе познакомиться с прищельцем. Прекрасная, как женщина, тигрица, словно переливаясь всем телом, сделала к нему несколько шагов. Игорь отшатнулся, роняя камеру, схватил лежащее рядом ружье. Это недоброе движение насторожило зверей. Зашевелились кабаны, медведи. Вскочила на тоненькие ножки косуля. Изюбр выжидательно наклонил корону рогов. Однако все они смотрели на Игоря пока без вражды . Да, но... и один-то взгляд звериный трудно вынести, а тут столько непонятных глаз устремлено. И когда тигрица вновь двинулась к нему, нервы Игоря не выдержали. Он вскочил, взметнул карабин и выстрелил. Раз, другой!..Лебедев, домовой и дзё комо припали к земле. Словно вихрь пронесся над ними. Приподнявшись, увидел Лебедев, что поляна у священного дерева почти пуста. Звери разбежались, птицы разлетелись. На поляне лежала только убитая тигрица, и неожиданно выглянувшее, словно на шум, солнце Играло на ее шелковистой шерсти, А рядом, то припадая к еще теплому боку матери, то поднимая голову, топтался тигренок-сеголеток. Он переступал широкими передними лапами, не решаясь нападать, играя в наступление. Был он лобастый и ушастый, а на круглой голове шерсть еще не приобрела яркого, оранжевого оттенка — была песочно-желтой, мягкой. Из розовой, замшевой пасти тигренка рвался не рев, а обиженный, слабенький рык: — А-гг-рр-х-ха! А-гг-рр-х-ха! Секунду Игорь стоял неподвижно, словно любуясь тигренком, а потом вскинул карабин. Раздался выстрел, но пулю принял домовой, который успел выскочить из-за куста и прикрыть собою тигриного малыша. Тот скрылся в зарослях, а следующая пуля, посланная ему вслед, пошла вверх, потому что теперь уже и Лебедев оторвался от куста и, метнувшись через поляну, изловчился ударить Игоря под локоть. Рывок сменился мгновенной растерянностью, но этого мига хватило Игорю, чтобы развернуться и точным ударом сбить Лебедева с ног. Боль парализовала тело, и что-то случилось с глазами, потому что Николай с трудом различал твердое, почерневшее лицо Игоря, который озадаченно смотрел на него, будто не веря, что это — Лебедев. Потом Игорь приподнял его, посадил, прислоняя к чему-то твердому, прохладному. Затылком Лебедев почувствовал чешуйки коры и понял, что это кедр. Он ощутил резкий запах смолы, и этот живой запах прояснил мысли, согнал пелену с глаз. Игорь тем временем нагнулся над неподвижным домовым, пробормотал :— Вот так здорово! Кто бы мог подумать, что эту пакость можно прикончить одним выстрелом! “Хынь, хынь, хынь... Мне бы хоть маленькую да пегонькую!..” — припомнилось Николаю, и он невольно застонал. — А, Лебедушка, Николашечка! — повернулся к нему Игорь. — Не усидел в своей тюрьме? С помощью нечистой силы решил выбраться? Зря ты жилы рвал. Я же не бросил бы тебя, на обратном пути вытащил бы, как обещал. Спешил ради этого. А теперь...— Он поднял карабин, но, заметив невольную судорогу, пробежавшую по лицу Лебедева, с наслаждением рассмеялся: — Нет, нет, что ты! — Стреляй, стреляй! — вырвалось из горла, и Николай краешком сознания удивился, что этот хрип — его. голос, что именно он произнес такие слова. — Я тебе жизни не дам теперь! — Сдурел? — спросил Игорь, наклоняя к нему разгоряченное лицо. — Что это тебя так разбирает? За дружка своего переживаешь? Да ну, не смеши: он тебя вон какие стрессы переносить заставил. Сидел бы дома, писал заметочки... — Он усмехнулся. — Или ты за природу вдруг разболелся душой? Ну что же, это сейчас в моде. Тема верняк. Вообразил уже, как опишешь оператора — истребителя малолетних тигров? Ну, во-первых, то была необходимая оборона, а во-вторых, твоим байкам обо мне никто не поверит. Помнишь, как обо мне говорили: “Игорешка, мол, Малахов родился с камерой!” Я не только стрелял, но и снимал. Вот и ты — запечатлен. И убитый амба тоже. И разор на поляне, и перепуганные звери, и вспугнутые птицы... Лента будет на “бис”!Легкая тень мелькнула в зарослях. Одна, другая, третья... Николаю почудились силуэты зверей. Игорь склонился над камерой и ничего не замечал. Звери таились в кустах, сжимая кольцо вокруг поляны. Вот сейчас они бросятся на людей... Николай хотел крикнуть, но почему-то не мог. Он был не в силах отвести взгляд от вздрагивающих ветвей. Игорь словно почувствовал что-то. Обернулся — и в то же время ближайшие кусты раздвинулись. Угрожающе нагнув голову, из них показался медведь. С воплем Игорь бросил на траву зажигалку. Огонь стремительно пробежал по сухой траве, заключая поляну в кольцо, ударил зверю в морду. Рев прокатился по тайге. И Лебедеву почудилось, что эхом отозвался медведю дзё комо. Николай уперся локтями в ствол и вскочил. Стянул свитер и принялся хлопать им по веселому пламени. На траве остались черные пятна ожогов. Он хлестал по огню, бил его руками, топтал его, готов был давить его всем телом. Раздирал горло в кашле, задыхался, а Игорь... не мешал ему, нет, он вдохновенно бегал следом с камерой и исступленно снимал. И ничего, кроме вдохновенной радости художника, не было на его лице. Это и казалось самым страшным. Страшнее разговоров об убийстве. Страшнее огня. Когда обессиленный Николай упал на колени, приткнувшись лицом к еще не сожженной траве, Игорь опомнился. — Колька! — прохрипел он. — Таких кадров не снимал еще никто. Никто! Ни... — Его воспаленные от дыма глаза источали счастье, как гной. — Теперь я их... Они меня узнают... Эх, сейчас бы грозу! Жаль, что осень. Молнию бы в этот кедр, чтобы его никто и никогда больше не увидел. И только моя пленка... Лебедев запрокинул голову и увидел нависшую над ним ветвь с голубыми иглами. Дерево душ. Дерево начала жизни. Души людей, не рожденных еще людей! Для них тайга на всю жизнь осталась бы родным домом, как для их предков, дети учились бы дорожить ею, беречь и любить ее. И тысячи, десятки тысяч зверей и птиц находили бы в течение столетий возле этого кедра приют и защиту. Свои щедрые семена сеял он на восток и на запад, на север и на юг, чтобы не скудели души людей, чтобы не скудела жизнь в тайге и всем было бы в ней сытно, и привольно, и просторно, от серенькой летяги до насупленного клыкача. Рядом с таким деревом человек не может не стать тем, кто он есть по сути своей. Это случилось с Игорем. Вот чем объясняется его перевоплощение! Вернется он домой — и опять будет “душа-человек”, “первая камера”, принесет себе удачу в виде голубого кедра, запечатленного на кинопленке и слайдах... А сам Лебедев? Он чувствовал, что прозревает, освобождается от странной духовной подчиненности Игорю, исчезает вечное недоверие к себе, свободными стали не только поступки, но и мысли. Но... может быть, он просто завидовал Игорю? Не сам напал на великую жилу, не сам поведает о чуде, к другому придет слава первооткрывателя — опять к другому! А ведь всегда мечтал написать что-то такое, что могло бы всколыхнуть души людей. Он почему-то вспомнил о старых книгах в сырых подвалах библиотеки. Они сокрыты от людей, как этот кедр... Лебедев путался в мыслях. Об этом должны узнать люди, да! Рассказ мог бы заставить задуматься многих. Кедр вдруг представился Лебедеву неким средоточием всей амурской земли. Сколько поколений русских полили ее потом и удобрили кровью! А иные из их потомков все еще считают себя здесь временными жителями. Нет, Лебедев не судил их строго. Эта земля, на которую когда-то пришли их предки, для многих оставалась лишь местом заработка, быстрой карьеры, недолгого пристанища, вообще — чуть ли не выселками. Из чего же должна складываться любовь к земле, ощущение ее родиной? Из смиренного сознания, что именно здесь появился на свет? Да, но не только. Из тех бед и радостей, которые познал в этих краях? Да, но не только! Надо чувствовать в этой земле свои корни. А многих влекло отсюда на Рязанщину или Орловщину, в Поволжье, на Урал ли, где когда-то коренилась их родова. О ней жила память души, то, что громко можно назвать исторической памятью. Но сколь мало, трагически мало знали земляки Лебедева о тех, кто первыми пришел в Приамурье, ставил здесь первые села, защищал эту землю уже как свою! Непредсказуемая, как погода, конъюнктура общественных отношений прихотливо вычеркивала со страниц книг всякое упоминание об Албазине (Сноска: Албазин (Албазино) — один из первых пограничных постов на Амуре, не раз отражавший осады маньчжуров — столь же легендарный, как Бородино или Ладожское озеро.), южных границах, ссорах с великим сопредельным народом, тоже предъявлявшим права на эту землю. А тем, кто искони жил здесь и как раз был исконным хозяином тайги и Амура, отводилась роль всего лишь благодарственная за возрождение. Да, животворная кровь влилась в жилы старых племен. Однако возвращение физического здоровья порою влекло за собой утрату здоровья нравственного. Менялся уклад жизни — менялось и его отражение, искусство. Новые прививки не всегда шли впрок могучему старому Древу. Некоторые ветви его отмирали, да и молодая поросль порою принимала странные даже уродливые формы. Листья и ветви могучего древа становились модным украшением и яркой рекламой, и древняя сила его, прилежно изучаемая только специалистами, по-прежнему оставалась скучной тайной для множества людей. Открыть им связь с этой древней землей, внушить преклонение перед ней! Да, о ее тайнах, о ее глубокой мудрости нельзя молчать. Нельзя прикрываться рассуждениями о неприкосновенности источников, иначе зарастут они травой и вовсе исчезнут. Найти бы Слово, то самое, которым победить можно, как говорил домовой. Найти Слово — чистое, могучее, не запятнанное жаждой наживы или почестей! Оно должно быть свободным от всего этого, должно возникнуть из желания сказать правду о духовной жизни народа, возвеличить ее красоту, а не из стремления поймать прихотливую удачу там, где ее никто не ловил, как об этом упорно мечтает Игорь.Два человека лежали на поляне чуть живые от усталости, и перед каждым стояла своя дума. Дума одного шумела, словно прибой аплодисментов. Дума другого звалась прозрением и гласила, что, когда творец начинает заботиться не о том, как отзовется в душе и сердце его творение, а о том, чтобы кого-то обойти, обогнать, опередить любой ценой, он становится похож на карьериста-анонимщика, на убийцу, который подкарауливает за углом человека, мешающего достичь желанной цели... И еще Лебедев подумал, что, когда искусство всеядно и неразборчиво в средствах, оно напоминает обожравшегося людоеда. И не создать тогда художнику ничего значительного, великого или просто — необходимого людям. Лебедев поднялся. Игорь лежал неподвижно словно дремал. Николай осторожно вынул из его усталых рук камеру и хрястнул ею по стволу кедра. Полетели осколки пластмассы. Он еще успел выхватить из рюкзака кассеты с отснятой пленкой и выпустить ее тугую спираль на свет когда Игорь прыгнул на него, словно рысь. Они катались по траве, ненавистно хрипя в лицо друг другу, и Николай вдруг ослабел, увидев слезы в глазах своего врага. В ту же минуту Игорь, изловчившись, стукнул его по горлу ребром ладони. Удар получился вполсилы, но Николаю показалось, что из его легких разом выдернули весь воздух. * * * Он открыл глаза и вяло удивился: оказывается, уже много, много дней он лежит на этой поляне — вот и осень минула, пришла зима, метет метель... Почему же не холодно? Присмотрелся — и не поверил глазам. Омиа-мони был почти на высоту человеческого роста обложен сухими ветками. Игорь, видимо, опасался заходить за сушняком в тайгу, а потому срубал их маленьким охотничьим топориком с белого дерева и таскал к кедру. То, что Лебедев принял за хлопья снега, оказалось клочьями паутины, реявшими в воздухе, цеплявшимися за ветви кедра, траву, облепившими волосы и одежду Игоря. Легкие нити медленно летели за полосу сожженной травы, к настороженной тайге. Николай дернулся, пытаясь встать, и почувствовал, что его руки связаны ремнем. Видно, Игорь решил больше не рисковать. — Игорь! — крикнул Лебедев. — Что ты делаешь?! Тот не остановился, лишь скользнул по нему взглядом. Его потное лицо, покрытое паутиной, напоминало мохнатую звериную морду, — Хватит, — невнятно сказал он. — Не я... так пусть его никто не увидит. Еще год? А потом не найти? — Он говорил то громко, то тихо, пропуская слова. — Еще увидит кто-то... Поналезут. Нет уж. Проклятое!.. Душу вынуло. Два года, два года мечтал!.. Нет. Никому не дам. Николай догадался, что Игорь решил поджечь сушняк и уничтожить кедр. Может быть, злоба помутила его разум? И вдруг Игорь запнулся. Он запнулся на ровном месте и упал на колени. Ткнулся лицом в охапку веток, выпавшую из его рук, — да так и замер. Шли минуты — он не шевелился. Николай оттолкнулся от земли и с трудом сел. Нескоро ему удалось встать и подойти к Игорю. Наклонился, тронул его плечом — Игорь мягко повалился наземь. Его глаза были открыты, лицо застыло. Лебедев смотрел, смотрел в это лицо, пока не догадался, что Игорь мертв. Николай поднял голову. Те ветви кедра, которые покрыла белая паутина, на глазах усыхали, словно смерть касалась их своей рукой. Посмотрел на побелевшую от паутины голову Игоря — и вспомнил его рассказ о старухе-сказительнице, которая умерла неподалеку от этой поляны и голова которой тоже была покрыта белой паутиной. Вовсе не лечебную траву искать как решил Игорь, ушла в тайгу эта старуха! Родные сказали, что она пошла лечиться, но ведь уничтожить хворь могут не только целебные травы, но и смерть... Да, там, где растет дерево начала жизни, должно расти и дерево его предела. Вот оно! И его паутина уже окутала кедр!.. Николаю показалось, что ветви вздымаются, словно руки в мольбе. Сквозь кору Омиа-мони проступили очертания человеческого тела. Это была женщина... лицо ее смутно виднелось сквозь белую пелену паутины. Омсон!.. Николай вскочил и принялся ногами отшвыривать от кедра сухие ветви. Их было много, и паутина взвилась густым белым облаком от его резких движений. Лебедев остановился. Он бессилен один справиться со смертью! Огляделся. Тишина тайги смотрела на него. Если бы Лебедев знал какие-нибудь заклинания, он просил бы сейчас помощи у зверей, птиц, облаков! Вдруг он почувствовал, что ремень, стягивающий его руки, расстегнулся. Дело пошло лучше. Он оттащил ветки обратно к белому дереву и принялся обирать паутину со ствола. Она была очень липкая, забивала ноздри, мешала дышать, склеивала ресницы. Он как-то вдруг страшно устал, пальцы бессильно скребли кору, а паутина не снималась... Лебедев прижался к стволу Омиа-мони, обнял его, но ноги не держали. Он медленно сполз на землю и почувствовал, что больше ему не встать. Стало так тихо, словно паутина приглушила все звуки. И в этой белой тишине Лебедев увидел дзё комо, который стоял у края поляны. Казалось, он не может решиться ступить на полосу выжженной травы. Но вот он сделал шаг, другой... перешел ее... и Лебедеву почудилось, что вокруг его худенькой фигуры раскалился и заколебался воздух. Кружась, словно в танце, дзё комо начал обходить поляну, и от его плавных движений вздымался ветер. Быстрее, быстрее кружился дзё комо — и ветер усиливался. Он срывал с ветвей, ствола голубого кедра, с лица и одежды Лебедева паутину, и она кружилась вокруг дзё комо. И вот уже белый смерч несся вокруг поляны. Внезапно вспыхнуло легкое голубоватое пламя — Лебедев вспомнил, как мальчишки поджигают в июле тополиный снег, Вспыхнуло — и в тот же миг не стало на поляне ни белой паутины, ни дзё комо. Наверное, теперь он снова встретился со своим другом — домовым. Воздух на поляне снова стал чист и свеж, волны голубого сияния окутали кедр, н Лебедев увидел, что к нему идет Омсон. Она помогла Николаю встать, и, опираясь на ее руку, он медленно сделал несколько шагов, чувствуя, как покидают тело боль, усталость и страх. — Куда мы идем? — спросил он. Ее лицо было совсем рядом. — Ты пойдешь теперь сам. Тебе другой путь. И он вспомнил, что у каждой сказки бывает конец. Огляделся — и удивленно спросил: — Где Игорь?! — Ты еще встретишься с ним, и не раз. Но теперь ты знаешь... — Он жив? Значит, все это — наваждение? — Все правда, твердо сказала Омсон. — Все было. Два человека смотрели друг другу в глаза: один убивал жизнь тайги, а другой закрывал ее собою. И так будет еще не раз. Каждый идет своим путем. — А где же домовой и дзё комо? Улыбка легла на ее губы; — Не спрашивай о том, чего невозможно объяснить. И тут Лебедев увидел в черных волосах Омсон красную прядь, похожую на рану, и невольно коснулся ее. Пепел остался на его ладони. — Что это? Омсон слабо улыбнулась: — Тайга горела. Трава, кусты — мои волосы... Ему было больно говорить, но он заставил себя спросить: — Я не увижу тебя больше? Омсон посмотрела на него. Ее лицо приблизилось к его лицу, щека коснулась щеки. Они стояли так, и Лебедев слышал, как ветер брел сквозь тайгу, неподалеку звенела вода в каменном русле, а за облаками кричали неведомые птицы. Потом Омсон отстранилась. — Посмотри, — сказала она. — С тобой хочет проститься и он. Лебедев опустил глаза и увидел, что к коленям Омсон жмется тигренок. Тот самый! Николай присел на корточки и заглянул ему в глаза. Они были не злыми, не испуганными, а просто растерянными: светлые-светлые, зелено-желтые, совсем детские глаза. В них играли солнечные зайчики, как на мелководье, а черные зрачки хранили настороженный вопрос. Николай потянулся погладить тигренка и... . ..чуть не упал с выступающего ствола, на котором притулился и задремал.Сырость пробирала его до костей. Он оглядел стены завала — за ними слабо светился серый денек. Сон — только сон! Но как сжимается сердце!.. Надо спешить, словно бы шепнул кто-то на ухо, и Николай стянул энцефалитку, уже зная, что и как надо делать. Вот дырочка, наверное, прожженная у костра. Вот готова “веревка”. Вот полетел вверх обернутый в капюшон камень. Сорвался — не беда, еще раз бросит. Есть!.. Окинув взглядом свою недолгую тюрьму, Николай, упираясь ногами в скользкие стволы, полез, вернее, пополз вверх. Когда он был у самого провала, то увидел, что камень под его тяжестью вот-вот перевалится через сук. Однако Лебедев не испугался. Он не сомневался, что “веревка” сейчас снова натянется. Так и случилось. Но... Николай вдруг замер. Кто ждет его наверху? Домовой, как во сне? А что, если... Игорь? Какой выбор поставит перед ним явь? Он высунулся из щели и... что-то громко, резко зазвенело. Лебедев вскинулся, ничего не понимая. Было тихо. За окнами стояла глубокая чернота. Наверное, еще глухая ночь! Николай закрыл глаза, унимая всполошенное сердце. Звонков больше не было. Лебедев подождал немного. Потом спустил на ледяной пол ноги, подошел к входной двери и открыл ее.
|
Eng/Rus |